Трепет бытия и мучения трансформации: почему цифровой эпохе как никогда нужна экзистенциальная психотерапия

Кирк Шнайдер — один из ведущих апологетов современной экзистенциальной гуманистической психологии. Профессор Сайбрукского Университета в Калифорнии и Тичерс колледжа при Университете Каламбии в Нью-Йорке. Автор книги «The Spirituality of Awe» (2019). Это эссе опубликовано 12 ноября 2019 года в журнале Aeon под названием «The awe of being alive».
Перевод Насти Травкиной, впервые опубликован в телеграм канале Настигло.
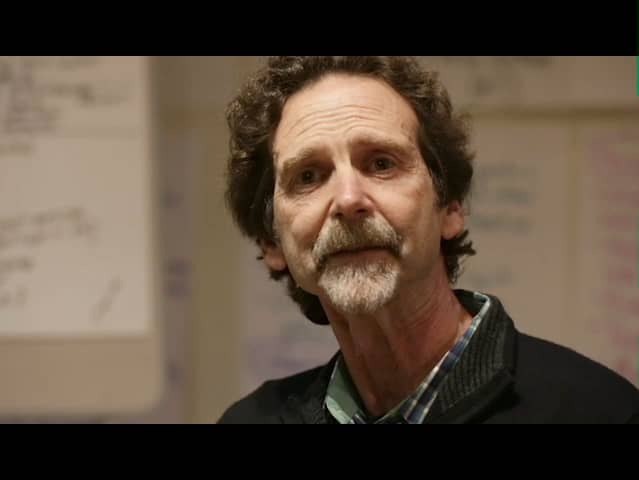
За последние 60 лет я наблюдал множество мучительных трансформаций. Как практикующий психолог, я видел их в государственных больницах, в психиатрических отделениях, наркологических клиниках и в кабинете частной практики; а в юности и сам переживал их на собственный интенсивной психотерапии. В этих тяжелых испытаниях мало «симпатичного», но, пройденные успешно, они дарят глубокое удовлетворение. Они меняют жизнь.
Мучительные трансформации рождаются из глубин отчаяния, но, если повезет, приводят на вершину возрождения. Так было со мной и так было со многими людьми, которых я знал или с которыми работал. Что может быть более ценным, чем дар освобождения от парализующего отчаяния, чем свобода для следования за тем, что по-настоящему имеет значение? Что может быть важнее, чем участие в настоящей борьбе за спасение чьей-то души?
И всё же сегодня я наблюдаю, как в нашей культуре укрепляется стремление пропустить часть этого уравнения, содержащую в себе борьбу, и резко перейти к части с трансформацией.
Нет, в желании быстро измениться нет ничего неправильного: оно вполне естественно. Когда кому-то плохо, он скорее ищет лекарство. Я делаю так, мои друзья делают так, и я готов поспорить, вы делаете так тоже; это инстинкт. И всё же есть серьёзные причины иногда подвергать этот инстинкт сомнению.
Например, большинство людей не начинают драться с тем, кто задел их. Точно так же большинство людей не выпаливают сразу всё, что они чувствуют только потому, что они это чувствуют. Напротив, есть много чего, что стоит принять во внимание: от людей, которым вы можете сделать больно, до состояния вашего сознания и обстоятельств события. Я видел много клиентов, которые первым делом хотели оскорбить того, кто оскорбил их; и всё же редко кто делает так. Потому что по ходу терапии эти клиенты понимают, что их противник — часто тот, с кем они связаны, и даже кого они любят; и они не хотят на самом деле причинить своему ближнему тех страданий, которые они пережили сами.
Есть много ситуаций, когда подождать лучше, чем реагировать, особенно когда дело касается эмоций.
Эмоции прекрасно справляются с сигнальной функцией: они предупреждают нас об опасности и мобилизуют силы, когда нужно действовать. Они также очень сложны и неоднородны. Например, многие люди иногда чувствуют себя презренными и нежеланными, однако не ищут утешения в наркотиках и не прибегают к суициду. Они видят, что, несмотря на мрачное настроение, и они имеют право жить и расти — точно так же, как другие живут и растут — и что они могут стать чем-то большим, чем стереотипной иллюстрацией «просто неудачников».
Но такое понимание, особенно долгосрочное, часто требует времени, борьбы, налаживания контакта с теми частями своей личности, которые выходят за рамки нашей внутренней подавленности — до тех пор, пока все части не придут к согласию. Глубокая экзистенциальная психотерапия ратует за труднодостижимое сосуществование конфликтующих частей нашей личности, которые испытывают мучения, но в долгосрочной перспективе эти страдания проливают свет на то, что такое быть человеком — что такое быть глубоко и богато живым.
Экзистенциальная психотерапия подчеркивает три главных темы: свободу исследовать, что глубоко важно именно для вас; способность переживать полнотелесный отклик на то, что глубоко важно для вас; и ответственность, то есть умение ответить — активно действовать согласно с тем, что глубоко важно для вас.
И всё же сегодня стало слишком легко пройти мимо такой свободы, переживания отклика и способности к ответу — а ведь всё это тесно связано с тем, кто мы есть, и кем мы хотим быть. Целая куча девайсов, формул и опосредованных машинами взаимодействий соблазняют нас позволить другим (в том числе механическим другим) делать за нас нашу работу. Будь то психофармакология, психотерапевтические приложения или развлекательный интернет-серфинг — есть много способов подарить себе надежду на то, что наша боль рассеется, что мы переживем трансформацию и что жизнь пойдет в бодром темпе.
Но расползается тень всеобъемлющего вопроса: какой ценой?
Чего будет стоить внешне и на уровне нервной системы нормализованная жизнь, полная рутины, зарегулированная, по сравнению с жизнью, которая переживает провалы и волнуется, но также и пульсирует?
Какова цена жизни, которая проплывает над морем многообразных тонких эмоций, покрытым рябью неудовлетворенности? Слишком часто эта цена — смерть, и в прямом и в переносном смысле. Статистика прямо указывает на это, учитывая рост случаев депрессии и зависимостей и того чувства изоляции, которые часто связывают с использованием смартфонов.
Моё самое раннее воспоминание — туманный образ моих родителей, плачущих на диване в гостиной. Мне было два с половиной года, и мой семилетний брат Келли только что погиб. Шел 1959 год, и сочетание ветрянки и пневмонии оказалось чересчур тяжелым для этого обычно сияющего и энергичного ребенка. Это событие взровалось в коллективной психике нашей семьи, его нельзя было просто взять — и осознать. Всё, что я мог осознать — то, что родители, которых я знал раньше, были почти неузнаваемы из-за тех разрушений, которые этот взрыв принес.
Добрый и игривый брат, которого я знал, улыбчивый лидер нашей пары, исчез, и на его месте разверзлась безжалостная непреходящая пустота. Котлован, полный гнева, сожаления и ужаса.
К трем годам я взорвался. Все мои защиты закончились. Меня мучали истерики и ночные кошмары. Я был в панике и потерян, не имея контроля в параноидальном мире беспомощности.
Учитывая тяжесть этого испытания, я совершенно уверен, что если бы я переживал сегодня такой опыт, какой пережил в 1959 году, меня бы поспешно успокоили медикаментами. Вместо этого мои родители тогда просто были рядом со мной. Они делали всё, что могли, чтобы провести меня сквозь мои битвы, и в итоге в возрасте пяти лет отвели меня к психоаналитику.
Он помог мне перевернуть мою жизнь; и хотя я продолжал испытывать глубокий страх и эмоциональные вспышки, он помог мне проработать их вместо того, чтобы замаскировать эти в перспективе небезнадежные болезни духа. А самое лучшее то, что терапевт олицетворял собой прочное присутствие: он позволял мне говорить и чувствовать всё, что угодно. Я сам держался на волоске — но он всегда стоял рядом несокрушимо и стойко и поддерживал меня до тех пор, пока я не прошел сквозь все бури.
Как много детей сегодня поощряют проживать их моменты — или хотя бы просто сопровождают их медикаментозное лечение настоящей эмоциональной поддержкой? У кого есть время и деньги заниматься этим? Позволю себе предположить, мало у кого.
Что действительно поощряют — так это приём антидепрессантов, противотревожных препаратов и разнообразных стабилизаторов настроения. Да, иногда такие средства могут спасти жизнь, но чаще всего их проталкивают фармацевтические компании, больше озабоченные своей выручкой, чем заботой о людях и тех внутренних ресурсах, которые могут позволить им жить той жизнью, к которой они стремятся.
Интересно, каким бы я стал, если бы со мной обращались по сегодняшним стандартам? Интересно, удалось ли бы мне пережить трудности одиночества, или столкнулся ли бы я с необходимостью (которую тогда поставил передо мной мой аналитик) развить внутренние ресурсы — такие как творчество, любопытство и воображение?
Он поощрял меня размышлять о причинах моих страхов и двигаться с нужной мне скоростью. Он уважал меня и мои способности, что стимулировало меня рисовать, сочинять и размышлять о загадках жизни; или отваживаться исследовать неизведанные территории отношений и идей — что я делал после борьбы и дальнейшей терапии.
Главная проблема современного подхода — в его одномерности. Препараты делают нервничающих людей спокойнее, а депрессивных более энергичными.
Когнитивная терапия настаивает на замене так называемых «иррациональных» мыслей (таких как страх летать или чувство никчемности) на рациональные, основанные на доказательствах мысли. Поведенческая терапия направлена на укрепление хороших привычек и замену ими привычек плохих — и так далее.
Проблема этих стратегий в том, что они работают с очень ограниченной основой.
Если вы хотите жить более эффективно, вдоль ясных и одобренных культурой линий, то вам замечательно помогут эти техники. Если вы хотите жить регламентированной жизнью с низким уровнем риска, эти средства уместны.
Но если вы принадлежите к той значительной и, возможно, растущей части человечества, что ищет больше глубины в жизни — больше смысла, больше витальности, больше глубины личности и глубины отношений — то вам понадобится что-то посложнее.
После целой жизни исследований экзистенциальный психолог Ролло Мэй сделал вывод, что многие из самых витальных и творческих людей в истории были максимально сильны как раз в самые уязвимые свои моменты. В книгу 1995 года «Психология экзистенции» (The Psychology of Existence, которую мы с Мэем написали вместе) он включил главу под названием «Раненый целитель»: она о том, что делает человека хорошим психотерапевтом.
Мэй приводит в пример знаменитого психолога Абрахама Маслоу, который был одиноким и несчастным в детстве, но сформулировал теории об оптимальной жизни и пиковом опыте. Мэй описал сонм как очень известных, так и менее прославленных людей, которые столкнулись — и в итоге объединились — с теми частями себя, которых боялись, и это содействовало их творчеству и продуктивности.
Тезис Мэя поддерживают множество выдающихся исследователей, включая Карла Юнга, Сильвано Ариети, Фрэнка Бэррона и самого Маслоу, который описал самоактуализирующюся (или самоосуществляющуюся) личность, которая реализует свой потенциал и воплощает в жизнь свои истинные мечты. В книге «На подступах к психологии бытия» (1962) Маслоу писал:
«Одно из моих наблюдений в течение долгих лет было для меня головоломкой, но теперь все постепенно начинает становиться на свое место. Это явление, которое я называю разрешением дихотомии у самоосуществляющихся людей. … Наиболее зрелые из исследовавшихся мною людей были также очень похожи на детей. Те же самые люди, которые отличались сильнейшим эго и яркой индивидуальностью, легко забывали о своем эго, поднимались над своим “я” и сосредоточивались исключительно на решении проблемы».
Клинический психолог Кэй Джеймисон — автор плодотворных исследований биполярного аффективного расстройства личности и книги «Опаленные огнем Маниакально-депрессивное заболевание и творческий темперамент» (1993) — согласна. Сама биполярник, Джеймисон описала десятки творческих гениев в истории, которые кажутся попадающими в биполярный спектр и которые в то же время совершили крупные взносы в человеческую культуру.
Многие из этих светил прожили очень трудную жизнь, и некоторые даже закончили ее суицидом. Но многие также жили богатой, полной сил жизнью с глубоко удовлетворительным результатом.
Следовательно, один из основных вопросов нашего времени — что случится, если мы удалим из жизни трудности и мучения, если мы упростим биологию, если устраним острые углы с помощью технологий на лекарств? Что случится, если мы обойдем потребность людей сталкиваться с их демонами, дискомфортом и слезами?
Будет ли художественное творчество в результате такой жизни по силе эмоций эквивалентно тому, что было вдохновлено чувствительностью, замешательством и маятой художников прежних времен?
Самые популярные виды лечение сегодня, такие как медикаменты или когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), часто краткосрочны и имеют смешанные результаты по эффективности. Есть мнение, что они помогают ослабить симптомы, такие как негативные мысли, плохой аппетит или фобии. Но они спорны, когда речь идет о сложных жизненных проблемах, таких как поиск смысла и цели или любовные трудности.
Другие современные средства включают терапию посттравматического стрессового расстройства на основе технологий виртуальной реальности, использование нейрологической обратной связи с помощью фМРТ-данных для ведения психотерапевтической практики и приложения для всего — от тревожности до депрессии и синдрома раздраженного кишечника.
Исследования этих методик до сих пор в процессе, но у меня есть ползущее предчувствие, что мы входим в дивный новый мир, где статистические и механические манипуляции подменяют собой личное исследование и риск.
Является ли виртуальная встреча с тревожностью — или с желанием, если на то пошло — тем же самым, что и реальная встреча? Приложение — это то же самое, что целитель-человек (оставим за скобками «раненого целителя»)? Является ли опыт взаимодействия с девайсом, дающего эмпатический ответ, таким же, как опыт реального человеческого сочувствия? Является ли воспроизведение отношений по учебникам и согласно данным статистики таким же процессом, как реально развивающиеся личные отношения со всеми их беспокойствами и уязвимостями, их вызовами и сюрпризами?
Я сомневаюсь. Кроме того, все возрастающее количество исследований поддерживают идею ценности подлинных терапевтических отношений между двумя личностями.
Да, конечно, краткосрочные «механизированные» отношения тоже ценны. Они могут дотянуться до мест, где нет профессиональных специалистов; помочь людям с инвалидностью, которые не могут передвигаться; или достучаться до молодых людей, приученных к карманным девайсам.
Но не станут ли эти средства концом всему, что наше общество превозносило до сих пор?
Мне кажется, мы опрометчиво движемся в сторону трясины социальной инженерии, которой боялись так много гуманистических психотерапевтов. Это подход, в котором акцент ставится на девайс, технику или алгоритм — а не на врожденные способности пациента к возрождению.
Эта модель подчеркивает стандарты нормальности, регуляции и спокойствия, которые навязываются извне без учета внутренних способных на диалог энергий личности. Наконец, эта модель может украсть наши достоинства — не только наши мучения — лишив нас многогранности.
Вот список тех переживаний, от которых бы меня «пощадили», если бы я был залечен и и подключен к девайсам еще ребенком (использует отличное выражение «drugged and plugged» — прим. переводчика):
- испытание одиночеством;
- тоска сильной скорби;
- инерция сильного отчаяния;
- ужас уязвимости;
- утомленность неуверенностью;
- горечь гнева;
- паника растерянности.
А вот список тех переживаний, которых бы заодно меня лишили таким образом:
- творческая сила одиночества;
- чуткость к проявлению скорби;
- подъём сил, вызванный отчаянием;
- неповиновение, вызванное страхом;
- смирение, порожденное уязвимостью;
- возможности, открывающиеся неуверенностью;
- сила, вызванная гневом;
- любопытство, вызванное замешательством;
- исследование себя, глубины психотерапии и исследования, вдохновленные всеми моими мучениями.
Мне кажется, одно всеобъемлющее свойство отличает человека от механического существования.
Это даже не сознание, потому что искусственный интеллект уже показывает, что механические создания могут достигать такого уровня распознавания сигналов, что выглядят осознанными. Их сознание не рефлексирует, оно не способно осознавать себя, но ученые работают над машинами, которые смогут изменять свое поведение, получая обратную связь среды.
И это даже не способность переживать эмоции: сейчас разрабатывают нейрочипы, которые когда-нибудь смогут повторить биохимические процессы, лежащие в основе переживаний, скажем, грусти или восторга. В грубом варианте это эффект достижим с помощью психотропных веществ.
Это самое большое и даже будто бы непреодолимое препятствие для ИИ — парадоксальность жизни. Как и в случае с историей моих детских мучений, это не переживание одного образа, мысли или эмоции, но переживание сложно переплетенных образов, мыслей и эмоций, которые одновременно взаимопроникают и сталкиваются между собой.
Подобные парадоксы включают в себя: щепотку страха в любви; намек на грусть в минуту ликования; привкус зависти в самой восхищенной дружбе. Существует множество комбинаций тончайших нюансов , которые придают жизни вкус, пафос и яркость — её трепет.
Давайте посмотрим, как каждая из этих так называемых «негативных» эмоций отдаются эхом в разных диапазонах сознания.
Печаль включает в себя сожаления и уныние, глубокое чувство тяжелой утраты и проигрыша. Но растущий корпус исследований пост-травмы также показывает, что печаль обращает нас к факту мимолетности жизни, заставляет почувствовать ценность момента, помогает испытать эмпатию к чужим бедам. С другой стороны, она же становится контрастной точкой и служит усилению таких чувств как открытая радость, энтузиазм и восторг. Наконец, грусть может «войти в наше сердце», как написал Райнер Мария Рильке в «Письмах к молодому поэту» (1929); она может принести нечто новое, способное изменить нашу жизнь:
«И поэтому так важно быть одиноким и внимательным, когда ты печален; потому что-то, казалось бы, недвижное и остановившееся мгновение, когда в нас вступает будущее, много ближе к жизни, чем тот случайный и шумный час, когда оно — как бы независимо от нас — обретает жизнь. Чем тише, терпеливее и откровеннее мы в часы нашей печали, тем неуклоннее и глубже входит в нас новое, тем прочнее мы его завоевываем, тем более становится оно нашей судьбой, и мы в какой-нибудь отдаленный день, когда оно “совершится” (т. е. от нас перейдет к другим людям), будем чувствовать себя родственнее и ближе ему»,
— пишет Рильке.
Страх ослабляет и ограничивает нас, но он также подчеркивает то, что более нас самих. Конечно, страх может унижать, но исследователи предполагают, что он также может отрезвлять нас пониманием того, что нам под силу, а что нет. Страх служит фоном для храбрости. И без страха храбрость ничего бы не значила и, наверное, не смогла бы повлиять на курс нашей жизни.
Стремились ли бы мы вообще проявить смелость, если бы не знали страха? Искали бы мы новое — свежие мысли, чувства или начинания — не сталкиваясь с некоторыми опасениями? Эти вопросы редко задают энтузиасты так называемых «технологий трансгуманизма».
Гнев делает опасным, пробуждает вспыльчивость и тягу к власти. Это огненный взрыв и захватничество, которое угрожает другим. Но исследования также показывают, что ярость — это способ постоять за себя в праведном негодовании; она дает импульс храбрости и восстанавливает дух. Из гнева восставали дерзкие революции, в результате которых у нас появились личные свободы. Без гнева нежность может быть слабой, а пронзительность доброты — незамеченной.
Желать иметь качество другого — семена зависти; быть одержимым и фантазировать об обладании этими качества — её ростки. Зависть вызывает отчаянное желание быть чем-то другим, что мы есть, и это сводящая с ума пытка.
Но мой опыт как терапевта — и как клиента психотерапии тоже — показал мне, что зависть также может быть стремлением, планом на будущее и потенциально меняющим жизнь порывом. Мы видим проблески собственных желаний в тех, кому завидуем, и тем самым получаем возможность вскормить в себе новые стремления.
Зависть противоположна удовлетворению и придает ему целительную глубину.
Чувство вины указывает на те слова и поступки, о которых мы сожалеем. Это маленький молоточек в глубине нашего сознания, который простукивает все формы нашего самодовольства. Вина приглушает нашу удовлетворенность собой и подчеркивает наше уважение к другому. В то же время, как показали исследования психопатии, вина — и ее социальная часть, стыд — заставляет нас нехотя становится лучше, осведомляет нас о возможности поступать правильнее и сподвигает нас залечивать нанесенные другим раны. Трудно вдохновиться на изменения, если мы не можем столкнуться с чувством вины.
Ключевая задача моей терапии, а также в целом глубокой экзистенциальной терапии, — поддержка сосуществования эмоциональных и интеллектуальных противоречий.
Я любил и ненавидел в одно и то же время. Я был в ужасе, столкнувшись со смертью, и то же время меня пленяла в ней загадка — загадка жизни. Я трясся от фильмов ужасов — но они открывали мне альтернативный взгляд на мир, новые возможности и мое собственное воображение.
Подчеркивая присутствие противоречий, экзистенциальные психотерапевты стараются «удержать» это состояние, которое естественным образом возникает в их отношениях с клиентом — так же, как в самих клиентах. В этом смысле экзистенциальная психотерапия становится полем для смирения и удивления, авантюризма и трепета перед жизнью — всё это признаки того, что мы называем «всеобъемлющей трансформацией».
Как клиент психотерапии, я прошел путь от унизительного ужаса к постепенной заинтересованности и удивлением моими жизненными обстоятельствами. Например, у меня произошел сдвиг от парализованности непредсказуемостью судьбы ко все возрастающему доверию, любопытству и восхищению перед предстоящими мне открытиями. Благодаря неизменному присутствию рядом со мной, мои терапевты поддерживали во мне ощущение безопасности, чтобы я мог встретиться лицом к лицу со своей внутренней битвой.
Они «держали для меня зеркало», чтобы в нем я увидел одновременно то, как живу сейчас — и то, как я могу жить, чтобы я смог постепенно вышагнуть из моего хотя и знакомого, но ограниченного мира.
Меня болтало туда-сюда между ужасом и любопытством и обратно; от робкого опасения и растущей заинтересованности к ужасанию; от социальной отчужденности до принятия рисков — как в отношениях с моими терапевтами, так и в целом с миром.
В результате после нескольких лет терапии я был способен переживать больший спектр мыслей, эмоций и ощущений. Как и многие люди, с которыми я работал, я был освобожден не только для достижения целей, но также и для большего присутствия в своей жизни — и для жизни в целом. Я меньше идентифицировался со старыми искореженными частями своей жизни, и больше — с новыми развивающимися частями. С теми, что для меня были по-настоящему важны.
Лично я практикую то, что называю «экзистенциально-интеграционной терапией» (existential-integrative или EI) — она сочетает в себе целый спектр инструментов экзистенциального подхода. Как психотерапевт, я могу работать с пациентом в самом непосредственном, эмоциональном, кинестетическом и глубоком контакте, который только возможен.
Во время психотерапевтической сессии я вижу себя больше спутником в путешествии (как назвал это экзистенциальный аналитик Ирвин Ялом), нежели номинальным «доктором», занимающимся лечением.
Я стараюсь быть доступным как личность, а не как механик; сонастраиваюсь на потребности человека передо мной — а не смотрю на на него как на букет электрохимических процессов или диагностических ярлыков.
Это не значит, что я не попытаюсь поддержать пациента так, как того требуют обстоятельства — например, медицинским рецептом или стратегией решения его проблем. Но я постараюсь быть открытым для его чувств, ощущений в теле и образов, возникающих за пределами слов и объяснений.
Всё это требует внимания к процессу, а не только к содержанию. Этот подход поддерживает идею полной телесной осознанности — будь то осознание желаний пациента или того, что останавливает его от реализации этих желания на самых глубоких уровнях, там, где уже нет слов. Благодаря этому любое решение, рожденное из терапии, заряжено энергией всего тела из самого нутра человека.
Не каждый пациент может или хочет работать на таком уровне. Но тем, кто могут и делают так, этот подход обеспечивает возможность изменений, которые подстегивают способность переживать более широкий спектр мыслей, чувств и ощущений — то есть обеспечивают полнотелесный контакт с жизнью.
Опора на этот подход позволяет совершать смелые, твердые, значимые преобразования в своей жизни. Иначе говоря, такие клиенты могут взрастить способность непрестанного присутствия в самом себе и в мире — и через это присутствие пережить смирение, удивление и азарт. Те кто могут по-настоящему проживать это, получают осмысленность, остроту и благоговение перед чудом жизни.
Нам нужна такая терапия сегодня, потому предполагаемый ею жизненный трепет часто исключается из современного программируемо-медикализированного подхода к жизни.
Мы помогаем людям меняться, но всё чаще и чаще стимулом для этих изменений становится погоня за выгодой: урегулирование эмоций, прекращение негативных мыслей, здоровый сон, повышение личной продуктивности, более рациональный подход к жизни и так далее.
Такие терапевтические задачи вовсе не пустячны, но для многих людей они всего лишь «точки опоры» на более долгом и глубоком пути — пути поиска смысла и благоговения перед бытием.






